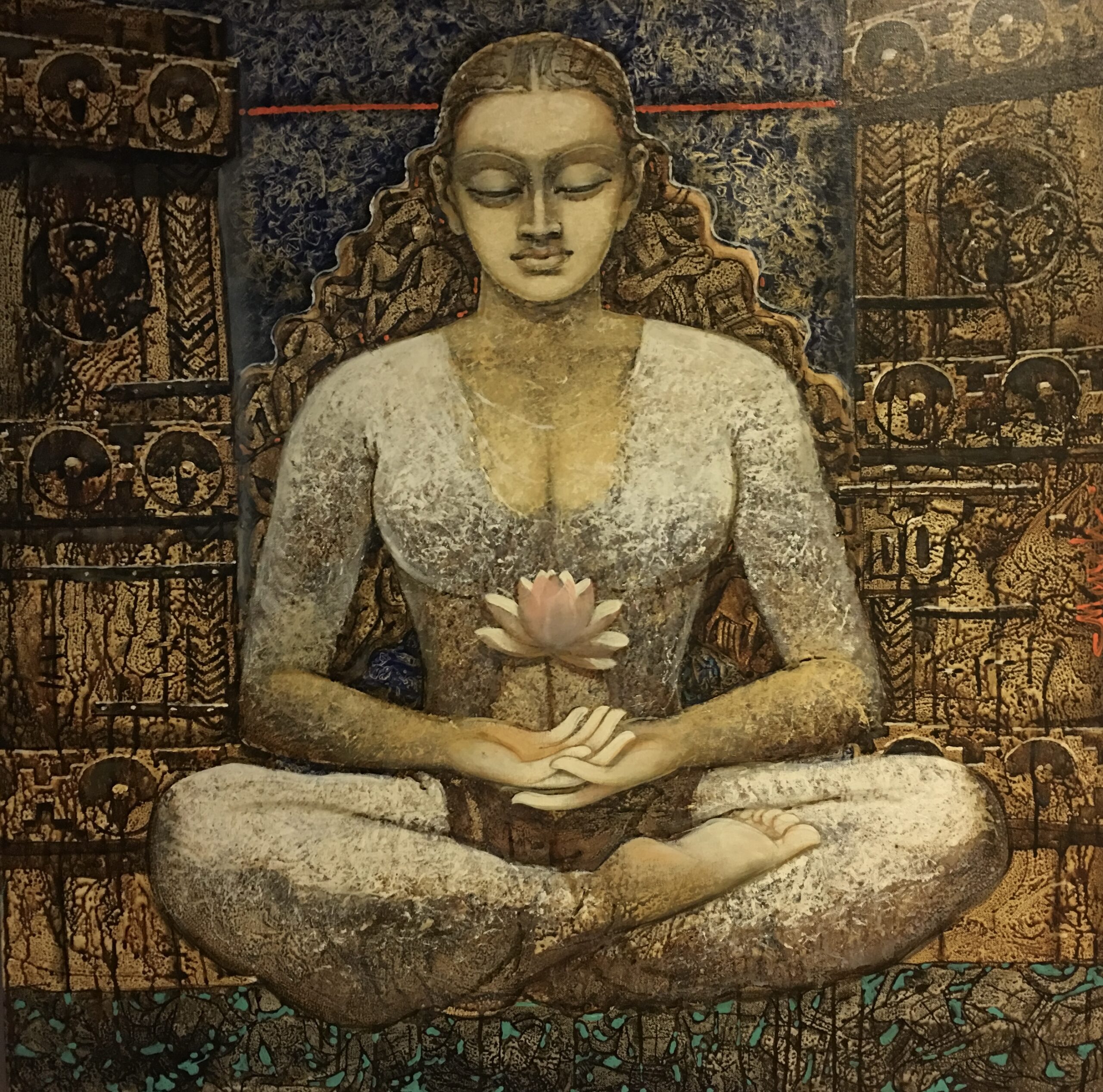Все мы, приехав в Америку, по сути продолжили бороться за то, за что боролись и прежде, но в иных, казавшихся нам оттуда более привлекательными, условиях – за право жить, как нам нравится. Проведя в этой изнурительной борьбе изрядную часть жизни и победив – кто нокаутом, кто по очкам – люди стали мечтать о другом – чтобы им нравилось, как они живут.
Вот вроде бы соприкасающиеся категории, почти как слагаемые (меняй местами или не меняй – один ответ), ан – нет. Так уж мы устроены: добившись определенной цели и обретя возможность жить как нравится, нам со временем перестает нравиться, как мы живем. Бесконечная погоня – за, бессмысленная суета – по каждому поводу, а часто и без, разочарования, а скорее несоответствие мечты и реальности – кругом, утрата интереса – ко всему. При этом все вроде хорошо, а только не радует. И вообще – сколько можно пить, чтобы люди понравились тебе?!
Кто-то называет это кризисом среднего возраста. Само понятие, кстати, ввел в обиход немецкий писатель и философ Томас Аббт в 18-м веке. В 1764-м году он посетил Вольтера в пригороде Женевы. Уж не знаю, о чем они там говорили, да только вернувшись в Берлин, Аббт написал о необратимости переоценки своего опыта, которое должно возникать у каждого мало-мальски образованного человека, когда он понимает, что многое из того, о чем мечталось, уже не сбудется, и от этого впадает в депрессию. При этом он ссылался на великого француза и свое собственное восприятие окружающей действительности, что странно для человека пусть творческого, но молодого. Аббт пообещал читателям найти средство от этого “кризиса”, но обманул их, покинув этот мир в возрасте 32 лет – не от пули на дуэли, не в постели возлюбленной и даже не от воспаления легких: от осложнений после геморроя. Возможно, ему следовало правильно питаться, больше двигаться и меньше погружаться в самоанализ. А всем остальным – задуматься об этом.
Я солгу вам, если скажу, что поехал в Индию просто “почиститься”. Да и кризис среднего возраста – позади, я обошёл его на несколько кругов по ходу дистанции. Просто так совпало: меня погнал за “три моря” слабовыраженный “синдром Аббта”, развившийся на почве забот о членах семьи, утомленности текучкой, предсказуемости не только последствий, но и хода застолий, фальши получаемых и расточаемых комплиментов, замкнутости круга, вынужденной толерантности, а также – не в последнюю очередь – страхом перед преследующими меня двумя изобретателями “поменяющих мир” устройств и безумным графоманом, требующим опубликовать эссе под названием “Антисемитизм Сергея Довлатова”. И это после того, как я отклонил его эссе “Антисемитизм Александра Солженицына”, “Антисемитизм Антона Чехова” и “Антисемитизм Сергея Бондарчука” (он когда-то жил неподалеку от дома режиссера “Войны и мира” и “Мексики в огне” и до сих пор обижен, что Сергей Федорович однажды не ответил на приветствие у подъезда). Изможденный, я сказал графоману: “Знаете, что? В Чикаго много других газет. Напишите им о Достоевском! Тем более, что Федор Михайлович являет собой обширный фактический материал в интересующей вас области…” Но он, недовольно цокая и бормоча: “Это и так всем известно…”, “Чего же вы от меня хотите?” и пропустив мимо ушей мое: “Ничего не хочу!”, ненадолго исчез, но вскоре принес сочинение о Довлатове. Эссе базировалось на строчке из письма от 1983 года похороненного на еврейском кладбище “Маунт Хеброн” во Флашинге сына Доната Исааковича Мечика из Нью-Йорка похороненному в Пенсильвании Игорю Ефимову в Мичиган: “Может быть, это антисемитизм, но я не готов воспринять такое количество чистокровных евреев – ни одного человека, хотя бы на секунду усомнившегося в своем совершенстве”.
– Но разве это не так? Довлатова можно понять, – сказал я с грустной усмешкой. Так, наверное, усмехался Томас Аббт, когда ему сообщили о том, что геморрой не лечится.
Графоман прислал гневное письмо по электронной почте, я его удалил, едва пробежав глазами, потому что в этот момент вспомнил о Танмае Госвами. Он советовал мне убегать от плохой энергии. В статье о Танмае (вы можете найти её на сайте www.svet.com – “Свет индийской звезды”) я достаточно подробно описал нашу первую встречу. Прощаясь, доктор пригласил меня в Индию со словами: “Мы постараемся навести порядок и здесь (он указал на сердце, но, как потом оказалось, имел в виду душу) и здесь” (на голову). Я кивал, просил при оказии заходить еще, но всерьез, конечно, ни о какой Индии не думал.
…И вот я, конечно, в самолете. Лечу на три недели к Танмаю. Вместе со мной (в багаже) летит в Индию бутылка текилы “Don Julio 1942”. Еще одна находится в багаже моего друга. Иными словами, я в этот момент вообще не понимаю – куда лечу и зачем (текила благополучно вернулась потом домой).
Приключение? Да. Но все-таки, в основном, из-за него, из-за Танмая. Не припомню, чтобы кто-то за последние годы производил на меня такое сильное впечатление со знаком плюс. Со знаком минус – было, а с плюсом – нет. А может быть, мы просто верим тем, кто смотрит на нас с интересом? Вы сразу отличите этот интерес от большинства иных – в нем нет неприкрытой материальной составляющей. Таким взглядом в Чикаго не смотрят даже собаки, которые все равно много лучше людей…
Перед отъездом я задавал знающим людям множество совершенно идиотских вопросов. Например, стоит ли брать с собой туалетную бумагу? Или куда бежать и что делать в случае укуса кобры? Знающие люди, сдерживая смех, отвечали, что в Центре все есть – и бумага, и питьевая вода в бутылках, и кондиционер. Подтверждаю, там есть вообще все, от чего обалдевал Маугли, когда его, наконец, вывели из джунглей. Кстати, в Индии я понял, что нет никакой разницы, из каких джунглей ты попадаешь сюда – из настоящих или каменно-бетонных. В итоге мы не сделали даже прививок.
Знакомая, неоднократно ездившая в Центр и возвращавшаяся оттуда (это было важно – увидеть человека, который вернулся), уже перед самым отъездом напугала меня словом “панчакарма”. Прочитать о ней времени не было – я упаковывал текилу и вещи. Хотя та же знакомая уверяла, что брать нужно только самое необходимое. Но мы на всякий случай захватили все для того, чтобы не ударить лицом в грязь, если в нашу комнату случайно войдет Нарендра Моди (это индийский премьер-министр) и пригласит на ужин. Парадная форма вернулась в Чикаго нетронутой, как и “Дон Хулио”.
Мы долетели до Мангалора с приключениями, связанными с неправильно полученными визами. Мангалор – ближайший город с международным аэропортом, до Удупи, в окрестностях которого находится Центр, приблизительно 50 километров. Если вы хотите прилететь в Мангалор напрямую (скажем, из Абу-Даби, как мы), то вам нужно обращаться за визами в индийское посольство – там их вклеивают в паспорт и вы – кум королю, махараджам и слонам. Процедура получения виз занимает от полутора до трех месяцев. С этими визами вам открыт путь куда угодно. С электронными, которые мы получили за 24 часа, можно лететь в Бомбей и Калькутту, Дели или Бангалор, и уже оттуда лететь до Мангалора. Причем пограничная служба в Мангалоре есть, но въезжать в Индию через эти врата с электронными визами нельзя. Почему – никто объяснить не смог.
Из-за этого, не будучи допущенными на ночной рейс на Мангалор, мы улетели утренним в Бангалор, а оттуда, часов в пять пополудни прилетели в Мангалор. Наши девушки, причём, хотели сначала поехать (“чтобы посмотреть страну”) на поезде – одном из тех, где на крышах вагонов едет больше людей, чем внутри, и под каждым там углом им готов и стол, и дом, и туалет. Я успокоился, осознав, что не одному мне полезно привести в порядок голову и волевым решением загнал всю бригаду в самолёт. Ну а потом нас встречал водитель танмаевского Центра, который, непрерывно подавая звуковые сигналы, домчал нас до места, пугая, как я уже рассказывал, информацией о кобрах, тиграх и людоедах семейства леопардовых.
Александр Этман.
(Продолжение следует)